Как рассказывать детям о сложных периодах истории?
03.08.2013 1 5090
Слово «история» обозначает не только науку и школьный предмет, но и национальную мифологию, которая у нас в России разорвана революциями ХХ века. Уникальна ли эта проблема для России? Как именно рассказывают о сложных периодах своей истории хорошие школьные учителя в других странах?
«Битву при Садовой выиграл прусский школьный учитель» — крылатая характеристика решающей битвы Австро-прусской войны, причем в несколько иной формулировке, принадлежит малоизвестному широкой публике профессору географии из Лейпцига Оскару Пешелю. А приписывается вот уже полтора столетия легендарному прусскому канцлеру Отто фон Бисмарку.
В этом удивительная историческая ирония: ошибка атрибуции лишний раз подтверждает справедливость высказывания. История — не то, что было на самом деле, а то, как об этом рассказано. И рассказано прежде всего школьным учителем истории, который лучше, убедительнее, ярче объяснил прусским юнцам, через пару лет вставшим под ружье, что именно их маленькому княжеству богом и судьбой предначертано объединить Германию, а потом поведал их детям, что великий Бисмарк не только возглавил процесс объединения, но и уловил важную роль школы.
Со времен Просвещения история на Западе начинает заменять религию в качестве основы идентичности. Если в прежние времена риторической, пропагандистской основой сиюминутной политики служило «божественное право», то в последние два столетия на его место пришло право историческое.
Деяниями предков — реальными или мифическими — меряют сегодняшние права потомков. «Наши предки Рим спасли» — это не только ирония над «гусями»-снобами, кичащимися правом рождения, это еще и универсальная формула современной политики, причем как внешней, так и внутренней. В политкорректном словаре это называется восстановлением исторической справедливости.
Классический пример использования аргумента от истории в международной политике — создание современного Израиля. Его права на палестинские земли были обоснованы идеологами сионизма, а потом признаны международным сообществом потому, что некогда именно там проистекала древняя история еврейского народа, зафиксированная в священных книгах и трагически прервавшаяся два тысячелетия назад.
Действие исторической политики внутри нашей страны можно ощутить практически каждый день, когда сторонники сравнивают президента Путина с Рузвельтом или Андроповым, а противники — с Пиночетом или сразу со Сталиным. Отсылка к позитивным или негативным историческим примерам — один из наиболее традиционных ходов в политической борьбе.
По сути, история в современном вестернизированном обществе исполняет роль своеобразной политической религии. Даже историко-политические метафоры имеют явно метафизическое наполнение: «дух предков», «душа народа», «священная дата»... И «жрецы» этой просвещенческой веры даже не историки, а обычные школьные учителя.
Окончив школу, большинство людей редко обращаются к многостраничным монографиям, посвященным малоизвестным деталям второстепенных событий. Основу массового исторического сознания составляет то, что было рассказано на уроках истории в школе, только слегка приправленное в дальнейшем разного качества комментариями в СМИ, телешоу и киноблокбастерах.
ЦЕЛЬ ШКОЛЬНОЙ ИСТОРИИ В ТОМ, ЧТОБЫ ДЕТЯМ НЕ ХОТЕЛОСЬ УБИВАТЬ (ОТ НАГНЕТАНИЯ ОБИЖЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЧУВСТВА) И СОВЕРШАТЬ САМОУБИЙСТВА.
Проблема в том, что в истории каждого государства есть сюжеты, вызывающие бурные споры по сей день. Как правило, они касаются гражданских конфликтов внутри страны или войн с другими странами. Причем чем менее стабильна ситуация сейчас, чем острее и непримиримее споры о настоящем и будущем, тем сильнее воспаляются национальные травмы прошлого. Неудивительно, что Россия сегодня — страна с «горячей» исторической памятью.
Идея единого учебника истории, давно витавшая в воздухе, а теперь официально одобренная главой государства, отчасти была ответом именно на этот вызов — сформировать единый национальный исторический нарратив, дабы раз и навсегда прекратить по крайней мере самые болезненные споры о прошлом: Петр Великий прорубил окно в Европу или лишил русский народ самобытности, большевики совершили переворот на иностранные деньги или великую социальную революцию, Сталин — кровавый тиран или эффективный менеджер?
Однако в этой идее есть изъян: она исходит из распространенного и интуитивно обоснованного предположения, что битва за прошлое предшествует битве за будущее. Сначала решим, хороший Сталин или плохой, а потом с этим знанием будем строить новую Россию. На самом деле нет. Прошлое устаканится тогда, когда наступит ясность с будущим.
Решим строить либеральную демократию по западному образцу — будем восхвалять одних деятелей, осуждать других, постепенно забывать третьих. Решим, что нам больше подходит автократическая диктатура развития, — многие поменяются местами. Пока же вопрос о будущем повис в воздухе, мы все равно обречены на постоянные «или — или» и бесконечные «да, но». Судя по комментариям, периодически доносящимся от членов группы по созданию единого учебника, таким он и будет.
И наконец, не стоит забывать, что непосредственную коммуникацию между госзаказом на историю, последними достижениями науки и реальными школьниками осуществляет учитель. И его роль, даже в условиях тотального идеологического давления, может быть далеко не механистична.
Известный московский учитель Анатолий Берштейн вспоминает, как рассказывал о советско-финской войне в глухие годы застоя:
«Читаю лекцию:
— Советское правительство направило финскому предложение о пересмотре границ между двумя странами. Финское правительство предложение отклонило. На следующий день начались боевые действия.
Кто-то из детей тут же:
— Анатолий Абрамович! А начал-то кто?
— Советское правительство направило финскому предложение о пересмотре границ между двумя странами. Финское правительство предложение отклонило. На следующий день начались боевые действия...
Пара глаз отрывается от тетрадей и понимающе смотрит. Спрашивают снова, я снова повторяю, кто-то еще поднимет глаза, и так, пока вопрос не будет исчерпан...»
Известный российский историк Алексей Миллер как-то сказал, что цель школьной истории как минимум в том, чтобы детям не хотелось убивать (от нагнетания обиженного национального чувства) и совершать самоубийства (из-за «наших» преступлений прошлого). Насколько успешно решают эту задачу в разных странах и что из их опыта могли бы почерпнуть мы?
Германия. Детям — о холокосте
— Несмотря на распространенное мнение, для школьников холокост не является старой и пыльной темой, — школьный учитель из Баварии уверяет, что преступления нацизма по сей день будоражат память юных немцев. — Многие реагируют на нее живо и заинтересованно. Учеников поражает размах ужаса. Интуитивно они понимают, что имеют дело с ужасным преступлением. Они хотят знать больше, чем знают из фильмов типа «Список Шиндлера».
Школьное образование в Германии децентрализовано, то есть каждая из шестнадцати земель сама определяет школьную программу. Но во всем, что касается нацизма вообще и холокоста в частности, регионы стремятся прийти к общему знаменателю. И это само по себе свидетельствует о той системообразующей роли, которую, по мнению властей, должна играть тема холокоста в формировании национальной идентичности современных немцев.
Двадцать часов изучается тема нацизма, Второй мировой войны и холокоста в средней школе — это порядка двух месяцев. Поступившие в старшую школу проходят ее снова. По сути, история Германии делится на то, что было до и что было после нацизма.
В официальных документах однозначно постулируется, что «интенсивное изучение национал-социалистической диктатуры относится к обязательным задачам школы, и что изучение национал-социализма и память о холокосте являются важным составным элементом образования и воспитания в ФРГ как в демократическом и правовом государстве».
Вот образчик идеального, «правильного» с немецкой точки зрения подхода к истории. С декабря 2004 года в Вольфенбюттеле школьники работают в каталоге Центра памяти жертв национал-социализма в тюрьме Вольфенбюттеля, составляя биографии бывших военнопленных и угнанных на принудительные работы. Инициатива исходила из гимназии имени Теодора Хойса. Целью проекта является создание архива и контакт школьников с выжившими узниками, а также с их семьями.
В этой благостной картине, однако, не обходится и без темных пятен.
— Дело не только в том, что в классах сидят дети из уже четвертого поколения после войны, но и в том, что многие дети — это мигранты или дети мигрантов, их предки не участвовали в холокосте. Учителям, которые хотят говорить об этом всерьез, приходится нелегко. Общими словами и сухими цифрами не обойтись, приходится говорить о морали, вступая в ту область, которую обычно не трогают. Часто учителя разочарованы тем, что во время посещения мемориалов в концлагерях некоторые ученики шутят или язвят, другие намеренно прогуливают такие занятия. Однако это не значит, что ученики однозначно воспринимают это в штыки. Просто «фронтальное наступление», пожалуй, не самый лучший подход.
К вопросу об эмигрантах. Многие выходцы из России жалуются на то, что их детям подробно говорят об Освенциме, но почти ничего, к примеру, о блокаде Ленинграда. Холокостоцентризм имеет свои отрицательные стороны.
К тому же в последние годы возникла своеобразная историческая конкуренция между «двумя тоталитаризмами» — гитлеровским и восточногерманским. Многие немецкие публицисты опасаются, как бы повышенное внимание к режиму ГДР не затенило бы доморощенный нацизм.
Что можно было бы использовать Главный плюс немецкого подхода — в том, что там не замалчивают преступления режима и при этом пытаются говорить не столько о палачах, сколько о жертвах. Благодаря этому изучение холокоста не превращается в суд над немецким государством как таковым. Внимание к конкретным судьбам жертв репрессий — то, чего остро не хватает российской школе и что могло бы ослабить остроту обобщающих споров.
Украина: меж двух огней
— Мне кажется, у россиян подход к изучению истории несколько отличается от нашего, — киевский учитель Григорий Лысенко уверен, что за двадцать лет раздельной жизни даже методология преподавания на Украине и в России успела измениться. — Если у нас стараются передать историю, не уходя от трагических вопросов, то в России сглаживают острые углы и «причесывают» вопросы, которые провоцируют дискуссии. Как историк я с этим не очень согласен, но такой подход мне ближе как педагогу.
По собственным словам, на уроках он стремится к максимальной политкорректности. Вот, например, противостояние Украинской повстанческой армии и НКВД, когда предки нынешних его учеников сражались по обе стороны баррикады:
УЧИТЫВАЯ РЕШЕНИЕ ПОЛЬСКОГО СЕЙМА ЭТИМ ЛЕТОМ, О ВОЛЫНСКОЙ ТРАГЕДИИ, НАВЕРНОЕ, МНЕ ПРИДЕТСЯ
ПРОВЕСТИ УРОК, ЧТОБЫ ДЕТИ СМОГЛИ РАЗОБРАТЬСЯ
— Стараюсь раскрыть этот материал с точки зрения обеих сторон. У каждого тогда была своя правда, каждый отстаивал свои интересы. Стараюсь вызвать у детей сочувствие к трагичности той ситуации, а они пусть решают, на чьей стороне правда и можно ли дать этому однозначную оценку.
Или Голодомор, который во времена «оранжевой революции» сравнивали с геноцидом армян и даже с холокостом:
— Это отдельный урок. Стараюсь точно, хотя и эмоционально преподнести тему — часто это происходит в трагической тишине. Я просто рассказываю им об этой трагедии, привожу статистику — сколько погибло людей, цитирую некоторые партийные документы. Остаться равнодушным здесь очень сложно.
— Какие вопросы задают дети?
— Дети часто бывают шокированы услышанным и, как правило, острых вопросов мне не задают. Я думаю, если бы было больше времени, они задали бы такой же вопрос, как и вы: «Григорий Петрович, так это был геноцид или нет?» Впрочем, детей не всегда интересует дискуссия вокруг терминов.
— На Украине предки детей из одного класса воевали друг с другом или отбирали зерно у тех, кто умирал с голоду. Насколько часто бывают случаи непонимания или агрессии между детьми по поводу истории?
— Честно скажу, агрессии не встречал. Возможно, в других регионах есть такой риск, но для киевлян это уже историческая тема. Однако учитель должен осознавать этот риск и быть максимально корректным. Ну вот представьте: живут люди в одном селе. Один из них был поставлен советской властью руководить колхозом. Ему дали план, и он ничего не мог поменять. Он выжил, тоже заботясь о своей семье, а сосед, у которого он забрал зерно, умер. Что теперь делать их наследникам? С мертвых спроса нет. Мне кажется, нужно, чтобы прошло какое-то время, чтобы трагедия Голодомора окончательно стала историей, а отношение к ней — менее эмоциональным. Эти страницы истории нужно просто помнить.
Кое-что, однако, даже в этой подчеркнуто политкорректной беседе выдает некоторые особенности современного украинского исторического нарратива. К примеру, Голодомор изучается отдельно, а вот такой малоприятный для антисоветской Украины факт, как волынская резня поляков в 1943 году, особенно не педалируется.
— Сейчас отдельно такого урока нет, хотя в учебнике есть материал об этих событиях 1943 года, так же как и об операции «Висла» и других. Но, учитывая решение польского Сейма этим летом, о волынской трагедии, наверное, мне придется провести отдельный урок, чтобы дети смогли сначала разобраться в этих событиях, а потом их оценить. Политики умеют подбросить работы историкам.
— Сколько времени и внимания уделяется теме еврейских погромов во время хмельниччины? Эти темы вообще обсуждаются?
— Отвечу так же, как и на предыдущий вопрос. Отдельно эта тема не читается, но я им рассказываю, и материал об уничтожении украинцами евреев и поляков в 1648-1657 годах есть, так же как и материал об уничтожении украинцев поляками в 60-70-х годах XVII века, когда были уничтожены села и города вместе с жителями. Дети знают об этих событиях и реагируют по-разному: кто-то оправдывает, кто-то осуждает. Они не всегда понимают, что в те времена вопросы территории, религии, языка стояли очень остро, что вело к этническим трагедиям.
В современной украинской школе насаждается концепт «дискриминируемой нации». Национальная идентичность строится вокруг идеи освобождения от иноземного господства. Это ход практически общий для всех бывших периферийных частей империи, волею исторического случая (а не в результате войны за освобождение) оказавшихся независимыми государствами. Случайность этого факта старательно затушевывается, а все, что свидетельствует об отдельности от бывшей метрополии, наоборот, подчеркивается.
— Старшее поколение украинцев учило историю Украины как часть истории России, Советского Союза, младшее поколение учило историю Украины как часть европейской истории...
— Не пойму, зачем делать такой водораздел. Мне не нравится такое деление и очень не нравится позиция России в отношении нашей истории. Мне кажется, что в конце концов политикам нужно понять, что коль так исторически случилось, что Украина — суверенная страна, то и историческая наука у нее своя. История — это не просто трактовка исторических событий, а один из элементов самосознания нации.
Россияне или белорусы должны и могут писать свою историю, а мы — свою. Что можно использовать Концепцию нации-жертвы в свое время активно эксплуатировал Борис Ельцин, когда боролся за независимость от союзного центра, утверждая, что Россия — безотказный донор-бессребреник всего Союза. На практике, когда бывшая метрополия остается наедине с собой, она, в отличие от своих прежних колоний, не может, как оказалось, всерьез построить национализм, чтобы не столкнуться с такими же проблемами, как «молодые нации».
С другой стороны, украинский кейс, который, правда, и сам далек от успешного завершения, представляет собой попытку объединить нацию в довольно случайно возникших границах. Для этого нужно признать, что участники исторических событий, даже если они были непримиримыми врагами, действовали во благо родины, как они его понимали. Тут есть проблема моральной жесткости: нельзя оправдать бесчеловечные преступления, но понять людей, стоявших по разные стороны баррикады, наверное, возможно.
США: как научиться родину любить
Успешный пример децентрализованной, но единой истории демонстрируют США. В Америке нет единого стандарта преподавания истории, каждый штат, а в отдельных случаях и сама школа вырабатывает собственную программу преподавания истории, которые, однако, в основе своей различаются не так уж и сильно.
Как это получается, мы спросили у школьного учителя с тридцатилетним стажем Майкла Локкета. Афроамериканец, в 60-е он был активным участником борьбы за гражданские права чернокожих. И по сей день Локкет убежден, что в США с куда большей охотой говорят о свободе, индивидуализме и конкуренции, чем о рабстве, уничтожении индейцев и бесправном положении чернокожих на протяжении более чем ста лет после окончания Гражданской войны, которая формально привела к их освобождению:
— Американская история, как, я подозреваю, и история других великих наций, изучается, так сказать, с «героической перспективы» — как история великих людей, которые одолели и дикарей-индейцев, и британских колонизаторов, чтобы основать великую страну, базирующуюся на правах человека, индивидуальной свободе и инициативе. Региональные различия существуют, но это основа основ в каждой школе каждого штата. С другой стороны, в какой-нибудь южной школе вы до сих пор можете услышать интерпретацию нашей Гражданской войны как агрессии Севера против Юга. Но все герои. Главное — все герои.
Сам Локкет пытается как-то разнообразить эту поистине голливудскую историю.
— Главное, что я пытаюсь донести до своих учеников, — это что до прибытия на Американский континент европейцев он уже был полностью заселен. И пусть цивилизации, жившие здесь, не знали ни колеса,
ни технологий обработки металла, они были вполне развиты и уж точно не заслуживали уничтожения.
Это, по сути, авторский курс. Не все американские учителя могут себе это позволить: на протяжении большей части карьеры Локкет работает в частных школах, а это всего io?s от общего числа американских образовательных учреждений. И здесь свои проблемы:
— Родители моих учеников платят примерно 40 тысяч долларов в год, а в семьях, где могут себе такое позволить, как правило, не очень в курсе, что такое борьба рабочих за свои права, зачем нужны профсоюзы и что такое марксизм — ну, кроме как «вселенское зло».
В остальных 90% американских школ учитель, как правило, должен довольно строго следовать даже не самой программе, а спускаемым сверху требованиям ежегодного теста, по итогам которого определяется его квалификация: грубо говоря, чем лучше его ученики написали тест, тем выше будет его зарплата в следующем году.
Кстати, определение «голливудская» неслучайно. Роль кинематографа в формировании исторических представлений американцев трудно переоценить:
— Вот Голливуд снял «Линкольна» — теперь еще год мне будут рассказывать о событиях Гражданской войны по этому фильму. Ладно, не худший вариант. Вот когда мне пересказывали американскую революцию на основе «Патриота» с Мелом Гибсоном, вот тут я не знал, куда бежать.
По словам Локкета, что попадет в школьную программу, а что останется за ее пределами, в значительной степени зависит от политической конъюнктуры:
— У нас чернокожий президент, множество афроамериканцев во всех сферах, включая образование, — конечно, в школах говорят об истории афроамериканцев.
Но я не думаю, что это навсегда. Растут испаноязычное и азиатское меньшинства — придется поговорить об их истории. А вот индейцев, по сути, нет, их почти не видно, и боюсь, вряд ли что-то кроме доброй воли отдельного педагога может заставить о них вспомнить.
Я ПЫТАЮСЬ ДОНЕСТИ ДО СВОИХ УЧЕНИКОВ — ЧТО ДО ПРИБЫТИЯ НА АМЕРИКАНСКИЙ КОНТИНЕНТ ЕВРОПЕЙЦЕВ ОН УЖЕ БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ ЗАСЕЛЕН
— А можете себе представить, что чернокожий мальчик будет готовить проект про легендарного военачальника южан генерала Ли?
— Конечно, а в чем проблема? Он действительно был выдающимся полководцем. Если парень хочет стать военным, ему это просто необходимо, к примеру.
Ну и потом, история есть история. Покойник не может вам навредить, а вот незнание, тем более по собственной инициативе, — легко.
Напоследок несколько раз спрашиваю про войну во Вьетнаме. Эту тему мой словоохотливый собеседник интересной не находит. Похоже, даже самые либеральные американские педагоги не интересуются внешней агрессией своей страны.
Что можно применить Наверное, стоит сделать ставку на децентрализацию программ в сочетании с общефедеральным контролем. Россия — страна с еще большими региональными и культурными различиями, чем США. Американский кейс в том, что кроме очень сильного патриотического ядра есть огромная часть родной истории, где нет единого центра, а потому нет своих и чужих.
"Русский репортер"
«Битву при Садовой выиграл прусский школьный учитель» — крылатая характеристика решающей битвы Австро-прусской войны, причем в несколько иной формулировке, принадлежит малоизвестному широкой публике профессору географии из Лейпцига Оскару Пешелю. А приписывается вот уже полтора столетия легендарному прусскому канцлеру Отто фон Бисмарку.
В этом удивительная историческая ирония: ошибка атрибуции лишний раз подтверждает справедливость высказывания. История — не то, что было на самом деле, а то, как об этом рассказано. И рассказано прежде всего школьным учителем истории, который лучше, убедительнее, ярче объяснил прусским юнцам, через пару лет вставшим под ружье, что именно их маленькому княжеству богом и судьбой предначертано объединить Германию, а потом поведал их детям, что великий Бисмарк не только возглавил процесс объединения, но и уловил важную роль школы.
Со времен Просвещения история на Западе начинает заменять религию в качестве основы идентичности. Если в прежние времена риторической, пропагандистской основой сиюминутной политики служило «божественное право», то в последние два столетия на его место пришло право историческое.
Деяниями предков — реальными или мифическими — меряют сегодняшние права потомков. «Наши предки Рим спасли» — это не только ирония над «гусями»-снобами, кичащимися правом рождения, это еще и универсальная формула современной политики, причем как внешней, так и внутренней. В политкорректном словаре это называется восстановлением исторической справедливости.
Классический пример использования аргумента от истории в международной политике — создание современного Израиля. Его права на палестинские земли были обоснованы идеологами сионизма, а потом признаны международным сообществом потому, что некогда именно там проистекала древняя история еврейского народа, зафиксированная в священных книгах и трагически прервавшаяся два тысячелетия назад.
Действие исторической политики внутри нашей страны можно ощутить практически каждый день, когда сторонники сравнивают президента Путина с Рузвельтом или Андроповым, а противники — с Пиночетом или сразу со Сталиным. Отсылка к позитивным или негативным историческим примерам — один из наиболее традиционных ходов в политической борьбе.
По сути, история в современном вестернизированном обществе исполняет роль своеобразной политической религии. Даже историко-политические метафоры имеют явно метафизическое наполнение: «дух предков», «душа народа», «священная дата»... И «жрецы» этой просвещенческой веры даже не историки, а обычные школьные учителя.
Окончив школу, большинство людей редко обращаются к многостраничным монографиям, посвященным малоизвестным деталям второстепенных событий. Основу массового исторического сознания составляет то, что было рассказано на уроках истории в школе, только слегка приправленное в дальнейшем разного качества комментариями в СМИ, телешоу и киноблокбастерах.
ЦЕЛЬ ШКОЛЬНОЙ ИСТОРИИ В ТОМ, ЧТОБЫ ДЕТЯМ НЕ ХОТЕЛОСЬ УБИВАТЬ (ОТ НАГНЕТАНИЯ ОБИЖЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЧУВСТВА) И СОВЕРШАТЬ САМОУБИЙСТВА.
Проблема в том, что в истории каждого государства есть сюжеты, вызывающие бурные споры по сей день. Как правило, они касаются гражданских конфликтов внутри страны или войн с другими странами. Причем чем менее стабильна ситуация сейчас, чем острее и непримиримее споры о настоящем и будущем, тем сильнее воспаляются национальные травмы прошлого. Неудивительно, что Россия сегодня — страна с «горячей» исторической памятью.
Идея единого учебника истории, давно витавшая в воздухе, а теперь официально одобренная главой государства, отчасти была ответом именно на этот вызов — сформировать единый национальный исторический нарратив, дабы раз и навсегда прекратить по крайней мере самые болезненные споры о прошлом: Петр Великий прорубил окно в Европу или лишил русский народ самобытности, большевики совершили переворот на иностранные деньги или великую социальную революцию, Сталин — кровавый тиран или эффективный менеджер?
Однако в этой идее есть изъян: она исходит из распространенного и интуитивно обоснованного предположения, что битва за прошлое предшествует битве за будущее. Сначала решим, хороший Сталин или плохой, а потом с этим знанием будем строить новую Россию. На самом деле нет. Прошлое устаканится тогда, когда наступит ясность с будущим.
Решим строить либеральную демократию по западному образцу — будем восхвалять одних деятелей, осуждать других, постепенно забывать третьих. Решим, что нам больше подходит автократическая диктатура развития, — многие поменяются местами. Пока же вопрос о будущем повис в воздухе, мы все равно обречены на постоянные «или — или» и бесконечные «да, но». Судя по комментариям, периодически доносящимся от членов группы по созданию единого учебника, таким он и будет.
И наконец, не стоит забывать, что непосредственную коммуникацию между госзаказом на историю, последними достижениями науки и реальными школьниками осуществляет учитель. И его роль, даже в условиях тотального идеологического давления, может быть далеко не механистична.
Известный московский учитель Анатолий Берштейн вспоминает, как рассказывал о советско-финской войне в глухие годы застоя:
«Читаю лекцию:
— Советское правительство направило финскому предложение о пересмотре границ между двумя странами. Финское правительство предложение отклонило. На следующий день начались боевые действия.
Кто-то из детей тут же:
— Анатолий Абрамович! А начал-то кто?
— Советское правительство направило финскому предложение о пересмотре границ между двумя странами. Финское правительство предложение отклонило. На следующий день начались боевые действия...
Пара глаз отрывается от тетрадей и понимающе смотрит. Спрашивают снова, я снова повторяю, кто-то еще поднимет глаза, и так, пока вопрос не будет исчерпан...»
Известный российский историк Алексей Миллер как-то сказал, что цель школьной истории как минимум в том, чтобы детям не хотелось убивать (от нагнетания обиженного национального чувства) и совершать самоубийства (из-за «наших» преступлений прошлого). Насколько успешно решают эту задачу в разных странах и что из их опыта могли бы почерпнуть мы?
Германия. Детям — о холокосте
— Несмотря на распространенное мнение, для школьников холокост не является старой и пыльной темой, — школьный учитель из Баварии уверяет, что преступления нацизма по сей день будоражат память юных немцев. — Многие реагируют на нее живо и заинтересованно. Учеников поражает размах ужаса. Интуитивно они понимают, что имеют дело с ужасным преступлением. Они хотят знать больше, чем знают из фильмов типа «Список Шиндлера».
Школьное образование в Германии децентрализовано, то есть каждая из шестнадцати земель сама определяет школьную программу. Но во всем, что касается нацизма вообще и холокоста в частности, регионы стремятся прийти к общему знаменателю. И это само по себе свидетельствует о той системообразующей роли, которую, по мнению властей, должна играть тема холокоста в формировании национальной идентичности современных немцев.
Двадцать часов изучается тема нацизма, Второй мировой войны и холокоста в средней школе — это порядка двух месяцев. Поступившие в старшую школу проходят ее снова. По сути, история Германии делится на то, что было до и что было после нацизма.
В официальных документах однозначно постулируется, что «интенсивное изучение национал-социалистической диктатуры относится к обязательным задачам школы, и что изучение национал-социализма и память о холокосте являются важным составным элементом образования и воспитания в ФРГ как в демократическом и правовом государстве».
Вот образчик идеального, «правильного» с немецкой точки зрения подхода к истории. С декабря 2004 года в Вольфенбюттеле школьники работают в каталоге Центра памяти жертв национал-социализма в тюрьме Вольфенбюттеля, составляя биографии бывших военнопленных и угнанных на принудительные работы. Инициатива исходила из гимназии имени Теодора Хойса. Целью проекта является создание архива и контакт школьников с выжившими узниками, а также с их семьями.
В этой благостной картине, однако, не обходится и без темных пятен.
— Дело не только в том, что в классах сидят дети из уже четвертого поколения после войны, но и в том, что многие дети — это мигранты или дети мигрантов, их предки не участвовали в холокосте. Учителям, которые хотят говорить об этом всерьез, приходится нелегко. Общими словами и сухими цифрами не обойтись, приходится говорить о морали, вступая в ту область, которую обычно не трогают. Часто учителя разочарованы тем, что во время посещения мемориалов в концлагерях некоторые ученики шутят или язвят, другие намеренно прогуливают такие занятия. Однако это не значит, что ученики однозначно воспринимают это в штыки. Просто «фронтальное наступление», пожалуй, не самый лучший подход.
К вопросу об эмигрантах. Многие выходцы из России жалуются на то, что их детям подробно говорят об Освенциме, но почти ничего, к примеру, о блокаде Ленинграда. Холокостоцентризм имеет свои отрицательные стороны.
К тому же в последние годы возникла своеобразная историческая конкуренция между «двумя тоталитаризмами» — гитлеровским и восточногерманским. Многие немецкие публицисты опасаются, как бы повышенное внимание к режиму ГДР не затенило бы доморощенный нацизм.
Что можно было бы использовать Главный плюс немецкого подхода — в том, что там не замалчивают преступления режима и при этом пытаются говорить не столько о палачах, сколько о жертвах. Благодаря этому изучение холокоста не превращается в суд над немецким государством как таковым. Внимание к конкретным судьбам жертв репрессий — то, чего остро не хватает российской школе и что могло бы ослабить остроту обобщающих споров.
Украина: меж двух огней
— Мне кажется, у россиян подход к изучению истории несколько отличается от нашего, — киевский учитель Григорий Лысенко уверен, что за двадцать лет раздельной жизни даже методология преподавания на Украине и в России успела измениться. — Если у нас стараются передать историю, не уходя от трагических вопросов, то в России сглаживают острые углы и «причесывают» вопросы, которые провоцируют дискуссии. Как историк я с этим не очень согласен, но такой подход мне ближе как педагогу.
По собственным словам, на уроках он стремится к максимальной политкорректности. Вот, например, противостояние Украинской повстанческой армии и НКВД, когда предки нынешних его учеников сражались по обе стороны баррикады:
УЧИТЫВАЯ РЕШЕНИЕ ПОЛЬСКОГО СЕЙМА ЭТИМ ЛЕТОМ, О ВОЛЫНСКОЙ ТРАГЕДИИ, НАВЕРНОЕ, МНЕ ПРИДЕТСЯ
ПРОВЕСТИ УРОК, ЧТОБЫ ДЕТИ СМОГЛИ РАЗОБРАТЬСЯ
— Стараюсь раскрыть этот материал с точки зрения обеих сторон. У каждого тогда была своя правда, каждый отстаивал свои интересы. Стараюсь вызвать у детей сочувствие к трагичности той ситуации, а они пусть решают, на чьей стороне правда и можно ли дать этому однозначную оценку.
Или Голодомор, который во времена «оранжевой революции» сравнивали с геноцидом армян и даже с холокостом:
— Это отдельный урок. Стараюсь точно, хотя и эмоционально преподнести тему — часто это происходит в трагической тишине. Я просто рассказываю им об этой трагедии, привожу статистику — сколько погибло людей, цитирую некоторые партийные документы. Остаться равнодушным здесь очень сложно.
— Какие вопросы задают дети?
— Дети часто бывают шокированы услышанным и, как правило, острых вопросов мне не задают. Я думаю, если бы было больше времени, они задали бы такой же вопрос, как и вы: «Григорий Петрович, так это был геноцид или нет?» Впрочем, детей не всегда интересует дискуссия вокруг терминов.
— На Украине предки детей из одного класса воевали друг с другом или отбирали зерно у тех, кто умирал с голоду. Насколько часто бывают случаи непонимания или агрессии между детьми по поводу истории?
— Честно скажу, агрессии не встречал. Возможно, в других регионах есть такой риск, но для киевлян это уже историческая тема. Однако учитель должен осознавать этот риск и быть максимально корректным. Ну вот представьте: живут люди в одном селе. Один из них был поставлен советской властью руководить колхозом. Ему дали план, и он ничего не мог поменять. Он выжил, тоже заботясь о своей семье, а сосед, у которого он забрал зерно, умер. Что теперь делать их наследникам? С мертвых спроса нет. Мне кажется, нужно, чтобы прошло какое-то время, чтобы трагедия Голодомора окончательно стала историей, а отношение к ней — менее эмоциональным. Эти страницы истории нужно просто помнить.
Кое-что, однако, даже в этой подчеркнуто политкорректной беседе выдает некоторые особенности современного украинского исторического нарратива. К примеру, Голодомор изучается отдельно, а вот такой малоприятный для антисоветской Украины факт, как волынская резня поляков в 1943 году, особенно не педалируется.
— Сейчас отдельно такого урока нет, хотя в учебнике есть материал об этих событиях 1943 года, так же как и об операции «Висла» и других. Но, учитывая решение польского Сейма этим летом, о волынской трагедии, наверное, мне придется провести отдельный урок, чтобы дети смогли сначала разобраться в этих событиях, а потом их оценить. Политики умеют подбросить работы историкам.
— Сколько времени и внимания уделяется теме еврейских погромов во время хмельниччины? Эти темы вообще обсуждаются?
— Отвечу так же, как и на предыдущий вопрос. Отдельно эта тема не читается, но я им рассказываю, и материал об уничтожении украинцами евреев и поляков в 1648-1657 годах есть, так же как и материал об уничтожении украинцев поляками в 60-70-х годах XVII века, когда были уничтожены села и города вместе с жителями. Дети знают об этих событиях и реагируют по-разному: кто-то оправдывает, кто-то осуждает. Они не всегда понимают, что в те времена вопросы территории, религии, языка стояли очень остро, что вело к этническим трагедиям.
В современной украинской школе насаждается концепт «дискриминируемой нации». Национальная идентичность строится вокруг идеи освобождения от иноземного господства. Это ход практически общий для всех бывших периферийных частей империи, волею исторического случая (а не в результате войны за освобождение) оказавшихся независимыми государствами. Случайность этого факта старательно затушевывается, а все, что свидетельствует об отдельности от бывшей метрополии, наоборот, подчеркивается.
— Старшее поколение украинцев учило историю Украины как часть истории России, Советского Союза, младшее поколение учило историю Украины как часть европейской истории...
— Не пойму, зачем делать такой водораздел. Мне не нравится такое деление и очень не нравится позиция России в отношении нашей истории. Мне кажется, что в конце концов политикам нужно понять, что коль так исторически случилось, что Украина — суверенная страна, то и историческая наука у нее своя. История — это не просто трактовка исторических событий, а один из элементов самосознания нации.
Россияне или белорусы должны и могут писать свою историю, а мы — свою. Что можно использовать Концепцию нации-жертвы в свое время активно эксплуатировал Борис Ельцин, когда боролся за независимость от союзного центра, утверждая, что Россия — безотказный донор-бессребреник всего Союза. На практике, когда бывшая метрополия остается наедине с собой, она, в отличие от своих прежних колоний, не может, как оказалось, всерьез построить национализм, чтобы не столкнуться с такими же проблемами, как «молодые нации».
С другой стороны, украинский кейс, который, правда, и сам далек от успешного завершения, представляет собой попытку объединить нацию в довольно случайно возникших границах. Для этого нужно признать, что участники исторических событий, даже если они были непримиримыми врагами, действовали во благо родины, как они его понимали. Тут есть проблема моральной жесткости: нельзя оправдать бесчеловечные преступления, но понять людей, стоявших по разные стороны баррикады, наверное, возможно.
США: как научиться родину любить
Успешный пример децентрализованной, но единой истории демонстрируют США. В Америке нет единого стандарта преподавания истории, каждый штат, а в отдельных случаях и сама школа вырабатывает собственную программу преподавания истории, которые, однако, в основе своей различаются не так уж и сильно.
Как это получается, мы спросили у школьного учителя с тридцатилетним стажем Майкла Локкета. Афроамериканец, в 60-е он был активным участником борьбы за гражданские права чернокожих. И по сей день Локкет убежден, что в США с куда большей охотой говорят о свободе, индивидуализме и конкуренции, чем о рабстве, уничтожении индейцев и бесправном положении чернокожих на протяжении более чем ста лет после окончания Гражданской войны, которая формально привела к их освобождению:
— Американская история, как, я подозреваю, и история других великих наций, изучается, так сказать, с «героической перспективы» — как история великих людей, которые одолели и дикарей-индейцев, и британских колонизаторов, чтобы основать великую страну, базирующуюся на правах человека, индивидуальной свободе и инициативе. Региональные различия существуют, но это основа основ в каждой школе каждого штата. С другой стороны, в какой-нибудь южной школе вы до сих пор можете услышать интерпретацию нашей Гражданской войны как агрессии Севера против Юга. Но все герои. Главное — все герои.
Сам Локкет пытается как-то разнообразить эту поистине голливудскую историю.
— Главное, что я пытаюсь донести до своих учеников, — это что до прибытия на Американский континент европейцев он уже был полностью заселен. И пусть цивилизации, жившие здесь, не знали ни колеса,
ни технологий обработки металла, они были вполне развиты и уж точно не заслуживали уничтожения.
Это, по сути, авторский курс. Не все американские учителя могут себе это позволить: на протяжении большей части карьеры Локкет работает в частных школах, а это всего io?s от общего числа американских образовательных учреждений. И здесь свои проблемы:
— Родители моих учеников платят примерно 40 тысяч долларов в год, а в семьях, где могут себе такое позволить, как правило, не очень в курсе, что такое борьба рабочих за свои права, зачем нужны профсоюзы и что такое марксизм — ну, кроме как «вселенское зло».
В остальных 90% американских школ учитель, как правило, должен довольно строго следовать даже не самой программе, а спускаемым сверху требованиям ежегодного теста, по итогам которого определяется его квалификация: грубо говоря, чем лучше его ученики написали тест, тем выше будет его зарплата в следующем году.
Кстати, определение «голливудская» неслучайно. Роль кинематографа в формировании исторических представлений американцев трудно переоценить:
— Вот Голливуд снял «Линкольна» — теперь еще год мне будут рассказывать о событиях Гражданской войны по этому фильму. Ладно, не худший вариант. Вот когда мне пересказывали американскую революцию на основе «Патриота» с Мелом Гибсоном, вот тут я не знал, куда бежать.
По словам Локкета, что попадет в школьную программу, а что останется за ее пределами, в значительной степени зависит от политической конъюнктуры:
— У нас чернокожий президент, множество афроамериканцев во всех сферах, включая образование, — конечно, в школах говорят об истории афроамериканцев.
Но я не думаю, что это навсегда. Растут испаноязычное и азиатское меньшинства — придется поговорить об их истории. А вот индейцев, по сути, нет, их почти не видно, и боюсь, вряд ли что-то кроме доброй воли отдельного педагога может заставить о них вспомнить.
Я ПЫТАЮСЬ ДОНЕСТИ ДО СВОИХ УЧЕНИКОВ — ЧТО ДО ПРИБЫТИЯ НА АМЕРИКАНСКИЙ КОНТИНЕНТ ЕВРОПЕЙЦЕВ ОН УЖЕ БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ ЗАСЕЛЕН
— А можете себе представить, что чернокожий мальчик будет готовить проект про легендарного военачальника южан генерала Ли?
— Конечно, а в чем проблема? Он действительно был выдающимся полководцем. Если парень хочет стать военным, ему это просто необходимо, к примеру.
Ну и потом, история есть история. Покойник не может вам навредить, а вот незнание, тем более по собственной инициативе, — легко.
Напоследок несколько раз спрашиваю про войну во Вьетнаме. Эту тему мой словоохотливый собеседник интересной не находит. Похоже, даже самые либеральные американские педагоги не интересуются внешней агрессией своей страны.
Что можно применить Наверное, стоит сделать ставку на децентрализацию программ в сочетании с общефедеральным контролем. Россия — страна с еще большими региональными и культурными различиями, чем США. Американский кейс в том, что кроме очень сильного патриотического ядра есть огромная часть родной истории, где нет единого центра, а потому нет своих и чужих.
"Русский репортер"




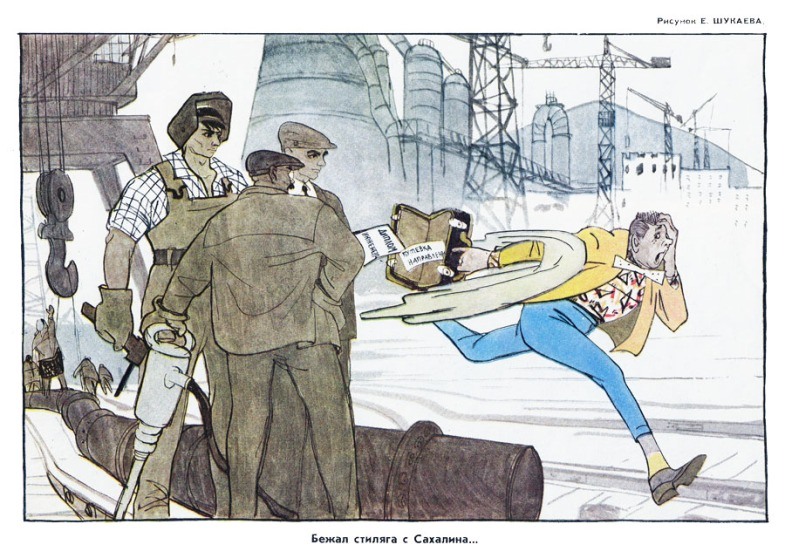


















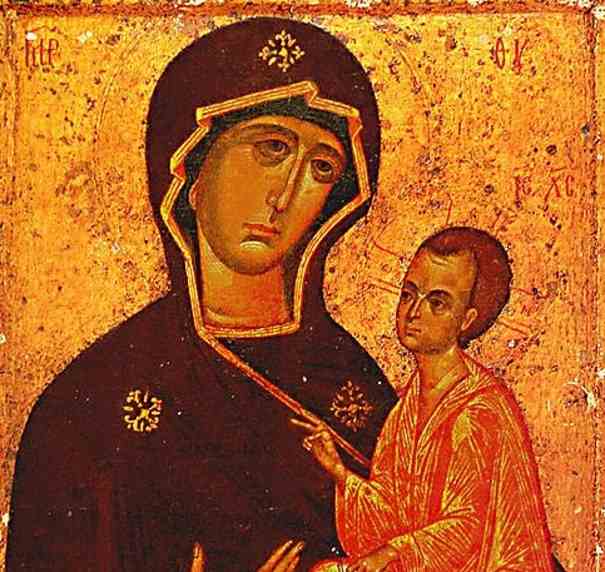


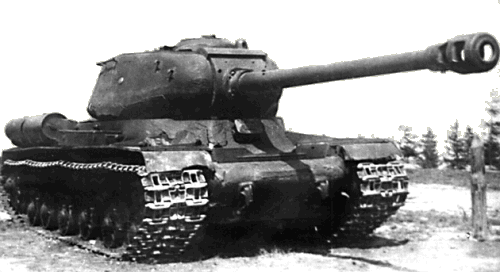





Комментарии